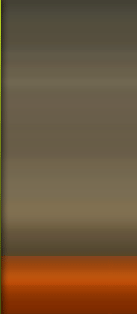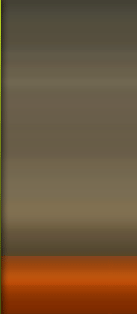| У деревьев и животных нет проблем. 
Томас Мертон был монахом-траппистом и завоевал популярность как талантливый католический писатель, автор книг о монашеской жизни. Направление его исследований изменилось лишь незадолго до того момента, как неисправный выключатель вентилятора в бангкокском отеле оборвал его жизнь.
В молодости Мертон вел беспокойную и бродячую жизнь. Родился он во Франции, родители его были новозеландского и американского происхождения, оба — художники. Мать умерла, когда он был еще ребенком, и с тех пор он путешествовал с отцом по Франции и время от времени проводил каникулы в Англии, вместе со своей тетей и беспокойными американцами — родителями матери, которые иногда наезжали в Европу, привозя с собой младшего брата Томаса, Джона Пола. В конце концов Томас поступил в английскую частную школу закрытого типа, а затем в Кембриджский университет, где получил ученую степень в области филологии современных языков. Но Кембридж ему не помог. Он был не в ладах с жизнью, никак не мог в ней разобраться, и в итоге впал в уныние. Он был нерелигиозен, но на него оказала глубокое впечатление искренность молодого индуса, который сумел растолковать ему смысл христианской мистики. В те ранние дни своих первых религиозных исканий Мертон был настолько поглощен самим собой, что смог по-настоящему поверить, будто Бог прислал этого человека из Индии специально для того, чтобы обратить его.
Когда началась война, Мертон похоронил отца и уехал в Америку, где прослушал несколько курсов в Колумбийском университете. Затем он начал посещать католические богослужения и решил стать католиком. Его невероятно угнетала бесцельность собственной жизни. Он больше не мог жить лишь для себя самого. Прожив некоторое время в уединении в цистерцианском аббатстве Гефсимани (Кентукки), он был принят послушником и до самой смерти остался монахом.
Жизнь монаха-трапписта проста и строго регламентирована. Мертон обрел здесь безопасность и целенаправленность, которых ему так не хватало во все эти годы бесконечных странствий. Из-под его пера выходили книга за книгой, повествующие об особых радостях монашеской жизни и ужасающей природе мира за стенами монастыря. Его автобиография “Гора в семь этажей” (в Великобритании издана под названием “Избрав молчание”) стала бестселлером, равно как и маленькая брошюра “Семена созерцания”, содержащая благочестивые мысли на соответствующие темы.
Впрочем, некоторые из этих “семян” проросли вовсе не там, где, по мнению Мертона, они были посеяны, и цветы их украсили то поле, где молчание ценится превыше религиозной активности и где ортодоксальное христианство иногда противоречит истине. Спустя 12 лет он написал “Новые семена созерцания” — книгу, снизившую его популярность среди католиков: читателям показалось, будто он подвергает сомнению христианскую веру в уникальность человеческой индивидуальности. Описывая созерцание (упражнение во внутреннем молчании и готовности к принятию Бога), он говорил:
“Созерцание не есть и не может быть функцией нашего внешнего “я”. Существует непреодолимое противоречие между глубоким трансцендентным “я”, пробуждающимся лишь во время созерцания, и поверхностным, внешним “я”, которое мы обычно отождествляем с первым лицом единственного числа. Мы должны помнить, что поверхностное “я” не является нашей подлинной самостью. Это наша “индивидуальность” и наше “эмпирическое” “я”, но это не та скрытая и таинственная личность, в которой мы на самом деле пребываем перед очами Господа. “Я”, которое работает в миру, думает о себе, наблюдает за собственными реакциями и говорит о себе, не является подлинным “я”, соединившимся с Богом во Христе. Это, в лучшем случае, покров, маска, личина, надетая на то таинственное и незнакомое “я”, которое не открывается большинству вплоть до самого смертного часа. Наше внешнее, поверхностное “я” не является ни вечным, ни духовным. Более того, это “я” обречено рассеяться целиком и без остатка, как дым из трубы. Оно чрезвычайно хрупко и эфемерно. И все созерцание заключается в осознании, что это “я” на самом деле “не- я”, и в пробуждении того неизвестного “я”, которое не склонно к наблюдениям и размышлениям и неспособно говорить о себе…”.
Христианские монастыри в большинстве своем населены двумя разновидностями монахов. Одна из них — это приятные, спокойные, словоохотливые люди, которые просто предпочитают мирской жизни спокойную рутину монашества и, обладая практическим умом, вовсе не склонны к мистицизму. Но в монастырях есть и люди более замкнутые, поглощенные самими собой, погруженные в свои переживания, как религиозного, так и светского характера.
Мертон был достаточно знаком с монахами обоих типов, и некоторые из его книг открыто критикуют образ жизни и настроения монахов. Он, в частности, опровергал тех, кто пытался определить созерцание и связанные с ним переживания с помощью психологической терминологии или научных дефиниций. В христианстве существует разграничение между понятиями медитации и созерцания. Медитация — это внутренняя дискуссия, молчаливое прорабатывание темы. Созерцание — это молчаливая близость к Богу, переживание бытия — и многие монахи в силу своего образа жизни и своей натуры в нем не нуждаются, точно так же, как многие активные религиозные деятели зачастую обходятся безо всяких духовных реалий.
Мертон был мистиком, и для него созерцание означало откровение и внутреннее озарение. Но западная религиозная мысль всегда была скорее вербальной и интеллектуальной, чем интуитивной. Многие христиане во все времена одобрительно повторяли декартово “cogito ergo sum” (“я мыслю, следовательно, я существую”). Это утверждение и позиция, которая из него вытекает, казались Мертону сущим проклятием:
“Это декларация отчужденного существа, изгнанного из собственных духовных глубин, вынужденного искать утешение в доказательстве факта своего собственного существования (!), основанном на наблюдении, что оно “мыслит”. Если ему необходима мысль в качестве посредника, с помощью которого он приходит к понятию бытия, то на самом деле он еще более удаляется от своего подлинного бытия. Он сводит себя к понятию. Он делает невозможным для себя непосредственное и прямое переживание тайны своего собственного бытия. В то же время, сводя также и Богак понятию, он делает для себя невозможным всякое интуитивное проникновение в Божественную реальность, невыразимую по своей сути. Он подходит к своему собственному бытию как к объективной реальности, то есть он пытается осознать себя, как он осознал бы любую чуждую для себя “вещь”. И он доказывает, что эта “вещь” существует. Он убеждает себя: “Следовательно, я — какая-то вещь. И затем он продолжает убеждать себя, что Бог, бесконечный,трансцендентн>ый, тоже “вещь”, “объект”, как и другие конечные и ограниченные объекты нашей мысли!
Созерцание же, напротив, есть переживание реальности как субъективного, причем не столько “своего” (то есть как бы “принадлежащего внешнему “я”), сколько “самого себя” как экзистенциальной тайны. Созерцание приходит к реальности не путем дедукции, но вследствие интуитивного пробуждения, когда наша свободная и личная реальность становится способной ясно постичь собственные экзистенциальные глубины, которые открывают доступ к тайне Бога”.
Католический философ Тейяр де Шарден считал личностную индивидуальность предельно реальной, и многие христиане также верили в это, базируя свои убеждения на факте исторического существования Бога, который стал человеком — Иисуса Христа. Но Мертон не считал такое доказательство существования индивидуальности сколько-нибудь серьезным. Он говорил, что гораздо лучше просто постичь свою собственную таинственную природу как личность, в которой существует Бог, чем верить, что человек существует вследствие того что он мыслит.
Вера в неизвестное “я”, не подверженное ни наблюдениям, ни размышлениям, — вот тема, проходящая через всю эту книгу красной нитью. Мертон считал неизвестное “я” действительно существующей личностью, которая, сообразуясь с замыслом Господа, неявно присутствует во всем творении: ” Чем более дерево похоже само на себя, тем более оно похоже на Него. Если оно пытается быть похожим на что-нибудь другое, быть чем-нибудь, чем по замыслу Бога оно быть никоим образом не должно, оно становится менее похожим на Него и, следовательно, менее способно славить Его”.
Это, однако, не значит, что такое неполное сходство делает созданные вещи несовершенными. Напротив, подлинное совершенство состоит не в подчинении какой-нибудь абстрактной форме; скорее, оно возникает там, где личность тождественна самой себе — своей собственной сущности, характеристикам и качествам. Когда она едина с самой собой, она славит Господа тем, что представляет из себя точное воплощение Его замысла, точно так же, как любое отдельно взятое дерево славит Господа тем, что пускает корни или раскидывает ветви таким образом, как это не делало и никогда не будет делать ни одно другое дерево.
Это мертоновское прозрение проливает свет на свойственную всем людям привычку подлаживаться под модную позицию или стиль. Вместо того, чтобы быть самим собой, — здесь и сейчас, не ведая ни о какой роли, которую я должен играть ради собственной выгоды – я по привычке думаю о себе так, словно на расстоянии шести футов от меня постоянно находится еще один человек, который оценивает мою игру. Мы живем не своими собственными, а чужими мыслями. Боязнь чужого осуждения заменяет нам разум.
Открытие своей собственной личности, очищенной от скрывающих ее наслоений общественных условностей и образования, является главной задачей таких восточных религий, как индуизм и суфизм. Это задача, занимающая умы таких мудрецов, как Кришнамурти и Рамана Махарши. Окончательное открытие Бога или Себя как основы своей собственной природы Мертон считает главной проблемой личности, что во многом сходно с мнением Раманы Махарши. Если Рамана Махарши полагал, что ощущение собственного “я” является ключом к решению вопроса существования, и что, отождествляясь со своим Источником, с “Собой”, оно позволит бытию раскрыть свои истинные возможности — то Мертон, на языке христианства, рассматривал свободную волю как дар Бога человеку, который необходимо использовать для активного соучастия с Богом в процессе открытия собственной тождественности с Ним:
“У деревьев и животных нет проблем. Бог делает их тем, чем они есть, не советуясь с ними, и они вполне удовлетворены.
В отношении нас Он поступает по-другому. Бог оставляет нам выбор быть всем, чем нам угодно. Мы можем быть или не быть самими собой — по собственному желанию. Мы вольны быть искренними или неискренними. Мы можем быть правдивыми или лживыми — выбор за нами. Мы можем носить то одну, то другую маску и — если захотим
— никогда не показывать никому своего истинного лица. Но мы не можем выбирать безнаказанно. Причины влекут за собой следствия, и если мы лжем себе и другим, у нас нет надежды найти истину и реальность там, где мы захотим их найти.
Ежели мы избрали путь лжи, нам не следует удивляться, что истина ускользает от нас в тот момент, когда мы в конце концов приходим к тому, что она нам необходима!
Мы призваны не просто быть, но трудиться совместно с Богом над созданием своей собственной жизни, своей собственной личности, своей собственной судьбы… Мы не знаем наперед, каким в точности будет результат этой работы. Тайна полноты моей личности скрыта в Нем. Лишь Он один может сделать меня тем, чем я есть или, скорее, тем, чем я буду, когда в конце концов поистине начну быть. Но до тех пор, пока я не захочу найти эту личность, трудясь с Ним и в Нем, работа никогда не будет завершена. Способ осуществления этой работы есть тайна, которую я могу узнать только от Него одного” [4].
Желание найти “истинную личность” отвлекло Мертона от замкнутой монастырской жизни, оказавшей влияние на его ранние сочинения, и побудило его проявить больше сочувствия к страждущему миру,
тогда как в юности он главным образом радовался тому, что покинул его. Он начал осознавать, что в этом мире живут люди со своими реальными проблемами. Он обнаружил, что расстояние между созерцанием и обыденной жизнью уменьшается, поскольку оба эти явления пробуждали в нем врожденное ощущение Бога. Он увидел, что путь к внутренней духовной уверенности недраматичен и скромен, и что наибольшую ценность имеет повседневный монашеский устав: «работа, бедность, лишения и однообразие”.
Было время, когда он пошел еще дальше и заявил, что “самый настоящий аскетизм — это тяжкая неуверенность, труд и ничтожество обездоленных”. Многим оказалось не под силу с этим согласиться. Если смотреть из безопасного монастырского убежища, страдания обездоленных могут показаться подлинной “аскезой”; но ни один страдающий и отчаявшийся отец голодных детей не сочтет условия своего существования аскетическими. И, проявив чуть больше проницательности, Мертон добавил:
“Сами по себе бедность и лишения, как таковые, — это еще не путь к созерцательному единению”.
По мере проникновения в смысл реальности Мертон стал все пристальнее приглядываться к этому внешнему миру. Одним из явлений современности, подвергавшихся его критике, было движение “Бог умер”, поднявшее больше шуму в Америке, чем в Европе; источником этого движения была книга Мартина Бубера “Затмение Бога”. Когда д-р Джон Робинсон, епископ Вулвичский, написал “Перед Господом — с искренностью”, Мертон отреагировал так:
“Начнем с того, что “мир” не нуждается в христианских апологетах… Он оправдывает сам себя. К своему же собственному удовольствию. Вот почему я считаю абсурдом идти к “миру” с этой (как я полагаю) очередной тактической уловкой, призванной склонить людей к откровенности, — с этой “нерелигиозной религией”, которая радостно соглашается с тем, что Бог мертв… Закономерная реакция “мира”: “Ну и что?” “Миру” точно так же не нужна “нерелигиозная религия”, как и религия традиционного типа”.
Мертон указывал, что человеку нужно не обычное христианство вовлеченное во все мирские дела, а религия “не от мира сего”. Человек хочет освободиться от модных “мифов, идолов и путаницы” сего мира. Он, конечно, никогда не сможет быть свободным от природного сотворенного мира как такового или от человеческого общества, но настоящий христианин должен освободиться от навязчивых идей того общества, которое управляется любовью к деньгам и жаждой власти — “Действительно важно: показать тем, кто хочет быть свободным, где на самом деле находится их свобода!”
Многие христиане не согласились бы, да и не соглашались с ним в этом вопросе: наверное, в любой религии, но особенно в христианстве все верующие делятся на две основные группы. Первая полагает, что в полной мере исполняет Божьи заветы, ведя активную христианскую жизнь, но не ощущает потребности в созерцании Бога; на самом деле они лишь робко следуют одной-единственной заповеди: “Остановитесь и познайте, что я — Бог”. Вторая, значительно меньшая группа, придает первостепенное значение собственному духовному самопознанию, хотя, подобно Олдосу Хаксли, отнюдь не склонна закрывать глаза на нужды этого мира.
Мертон был христианином второго типа, и можно сказать, не боясь ошибиться, что таких христиан легче всего найти именно в монастырях. Но в его созерцании присутствовали две темы, которые расширили его кругозор и, возможно, изменили направление его жизни. Одним из них была вера в то, что (как было указано ранее) “каждое конкретное существо… славит Господа, будучи тем, чем хочет его видеть Он здесь и теперь”. Полное осознание мига, который Мертон называет “настоящностью”, приводит к тому, что в сознание входит факт существования “неизвестного “я”. Весь процесс пробуждения совершается мгновенно. Где бы вы ни находились, в уединенной келье или на людной улице, в этом миге содержится все необходимое, для того, чтобы ваше “я” стало одним целым с трансцендентной реальностью.
Другой темой, часто упоминавшейся и активно разрабатывавшейся Мертоном, было избавление от Это: уход от индивидуального и достижение состояния бытийности посредством отказа от собственной “вещности”.
“До тех пор, пока существует “я”, которое является определенным субъектом созерцательного переживания, “я”, сознающее себя и свое созерцание, “я”, обладающее определенной “степенью духовности” — мы “остаемся в Египте”, так и не перейдя свое “Чермное море”. Мы остаемся в царстве разнообразия, деятельности, незавершенности, борьбы и желаний. Истинное внутреннее “я”, истинная, нерушимая и бессмертная личность, истинное «я», которое откликается только на новое и хранимое в секрете имя, известное только ему самому и Богу, и не «обладает» ничем, даже «созерцанием». Это «я» – не какой-нибудь субъект, который может копить переживания, размышлять над ними и размышлять над самим собой, ибо это “я’ не есть то поверхностное и эмпирическое “я”, которое знакомо нам из повседневной жизни” .
Эти темы неизбежно должны были привести Мертона, с его эрудицией и все более непредубежденным отношением к святости, к восточным религиям, и в частности к дзэн-буддизму, где осознание “настоящности” рассматривается в качестве одного из существеннейших моментов. Приятие мысли о том, что нехристианские религии тоже могут быть реальным источником духовности, возможно стоило Мертону некоторой внутренней борьбы, однако он сумел интуитивно постичь сущность учений индуизма и буддизма, и в будущем мог бы стать выдающимся “строителем моста” между Востоком и Западом, если бы не ушел из этого мира столь безвременно. Его раздражала предвзятость многих католических писателей, считавших восточные религии пессимистическими, пассивными и непригодными для Запада, и он начал работу над несколькими книгами, которые должны были указать на сходства и различия между христианством и восточными религиями.
Его основная исследовательская деятельность сосредоточилась в области дзэн-буддизма. Подлинные озарения подарили Мертону беседы с д-ром Д.Т.Судзуки, самым значительным в нашем столетии японским толкователем дзэн. После этих бесед он сказал, что буддизм (отдельной школой которого является дзэн) стал наконец ему понятен, что теперь он разглядел под обманчивой внешностью чуждой культуры и ритуалов, экзотических образов и таинственных слов их простую и ясную суть — “самую простую и самую ошеломительную вещь на свете: непосредственную встречу с Абсолютным Бытием, Абсолютной Любовью, Абсолютным Милосердием или Абсолютной Пустотой при непосредственной и вполне сознательной вовлеченности в процесс повседневной жизни. В христианстве эта встреча носит теологический и эмоциональный характер и осуществляется посредством слова и любви. В дзэн она носит метафизический и интеллектуальный характер и осуществляется при посредстве интуиции и пустоты”.
Он пришел к выводу, что “наше “я” не является своим собственным центром и не вращается вокруг себя самого; его центром является Бог, единственный центр всего, который находится “везде и нигде”, в котором все сходится, из которого все исходит…”.
Такова великая вера многих героев этой книги. Они утверждают, что мы движемся к свободе, если наше “я” начинает постигать свое собственное бессилие и свои пределы и находить новое счастье в отказе от собственной сущности, в избавлении от своей самости.
Мертон увидел, что личность, чувство маленького и индивидуального “я” заменяется “интуитивным ощущением основы всех зримых вещей, …бесконечным великодушием, которое сообщается со всем существующим”.
Такого рода утверждения заставили многих ортодоксальных католиков смотреть на Мертона с подозрением и недоверием, хотя Ватикан никогда не осуждал его взглядов открыто. (Один молодой доминиканский монах-англичанин рассказывал мне, что в его монастыре Мертона запрещают читать и считают “отступником”). И действительно, все более постигая существенные сходства между религиями, он все же допускал иногда оговорки, весьма необычные для католического автора:
“Возникает предположение, что дзэн определил не только систему постулатов буддизма, но также в определенной степени (и причем весьма заметно) “определил” Божественное откровение христианства”.
Даосизм, сформировавший большую часть духовного фундамента дзэн-буддизма в ранний период его развития, тоже очень привлекал Мертона и, после пятилетнего изучения предмета, он опубликовал “Путь Чжуан-цзы” — свою собственную интерпретацию сочинений этого китайского мудреца, осуществленную при содействии своего друга, д-ра Джона У. В страстном предисловии, посвященном Чжуан- цзы, которое с равным успехом можно было бы применить к самому автору, Мертон пишет:
“Я просто люблю Чжуан-цзы, ибо он есть то, что он есть, и я не чувствую необходимости оправдывать эту любовь перед самим собой или перед кем бы то ни было другим. Он слишком велик, чтобы нуждаться в какой-либо защите с моей стороны. Если Блаженному Августину можно было читать Плотина, если св.Фоме можно было читать Аристотеля и Аверроэса ( а ведь оба эти автора гораздо более далеки от христианства, чем Чжуан-цзы!), и если Тейяру де Шардену позволено широко пользоваться сочинениями Маркса и Энгельса для своего синтеза, то, я полагаю, мне простительно беседовать с китайским отшельником, разделившим со мною климат и покой моего одиночества и представляющим из себя тип личности, столь родственный моему…
Чжуан-цзы занят не словами и формулами, на которые можно разложить реальность, но непосредственным экзистенциальным постижением реальности в ней самой… Все учение, тот “путь”, который содержится в этих рассказах, стихотворениях и медитациях, характерны для определенного ментального типа, который можно обнаружить повсюду в мире, для определенного вкуса к простоте, смирению, самоуничижению, молчанию и вообще к отказу принимать всерьез агрессивность, амбициозность, напористость и самомнение, которые необходимо демонстрировать, чтобы преуспеть в обществе. Иными словами, это “путь” тех, кто предпочитает ничего не приобретать — ни в мире, ни в сфере предполагаемых “духовных достижений”. Для Чжуан-цзы, так же, как и для Евангелия, потерять собственную жизнь значит спасти ее, а пытаться спасти ее ради нее самой значит потерять ее. Спасти жизнь — значит утвердить мир, который является лишь гибелью и утратой. Спасти жизнь — значит отказаться от мира, который находит и спасает человека в его собственном доме, имя которому Божий мир. “Путь” Чжуан- цзы таинственен во всех своих проявлениях, ибо он так прост, что может позволить себе вовсе не быть путем. И менее всего он является “выходом” откуда-либо. Чжуан-цзы согласился бы со словами св. Хуана де ла Круса: вы вступите на этот путь, когда потеряете все пути и, в некотором смысле, заблудитесь”.
Томас Мертон погиб в Бангкоке, куда был приглашен для участия в конференции азиатских монашеских орденов. Его путешествие через Индию и Цейлон в Таиланд стало осуществлением долгожданной мечты, и когда самолет покинул аэропорт Сан-Франциско и направился на Восток, Мертон записал: “Мы оторвались от земли — и я, вместе с христианскими мантрами, переполняемый чувством судьбоносности, ощущением того, что я наконец-таки нахожусь на верном пути после долгих лет ожидания, сомнений и пустой траты времени”.
Поистине пророческие слова — но Мертон не чувствовал, что летит навстречу своей смерти. Скорее всего, он надеялся, что чувство родства с восточными религиями, которое он уже ощущал в себе, подтвердится — и подтверждение пришло. Возможно, это было для него глубоким духовным прозрением.
Он посетил пещеры Полоннарува на буддийском острове Цейлон – место, где расположены древние монастыри и гробницы и целое множество знаменитых скульптурных изображений Будды:
“Тропинка ныряет в Гал Вихара, широкую, тихую лощину, окруженную деревьями. Невысокий гранитный уступ, в нем высечена пещера: справа от пещеры большой сидящий Будда, лежащий Будда и, очевидно, Ананда, стоящий у него в головах. Викарий ордена, испугавшись “язычества”, приотстает и садится под деревом читать путеводитель. Я могу приблизиться к Буддам босиком, мне никто не помешает, мои ноги ступают по мокрой траве, мокрому песку. И вот – молчание необычайных лиц. Их широкие улыбки. Огромные — и в то же время кроткие. Содержащие в себе все возможности, не спрашивающие ни о чем, знающие все и не отвергающие ничего, спокойные, но не мертвенно-бесчувственные: это покой мадхъямики, шуньяты (Пустоты как сущности предельной реальности), которая смотрит сквозь все вопросы, не сомневаясь при этом ни в ком и ни в чем — не опровергая — не приводя никаких иных аргументов. Доктринера, чей разум нуждается в прочных опорах, этот покой, это молчание могут устрашить. Меня же переполнил поток облегчения и благодарности этим фигурам, их очевидной ясности, ясности и текучести форм и очертаний, самой мысли вписать монументальные тела в контур скалы и ландшафта; скульптура, скала и дерево. И отрогу голой скалы, спускающейся склоном по другую сторону лощины, где можно повернуться и увидеть фигуры в иных аспектах.
Глядя на эти фигуры, я внезапно оказался почти насильно вырван из привычного, скованного видения вещей и внутренняя ясность, внутренний свет, словно пробивающийся сквозь скалы, стал для меня явным и несомненным. Необычная очевидность склоненной фигуры, улыбка, печальная улыбка Ананды, стоящего скрестив руки (гораздо более “властная”, чем улыбка Моны Лизы, в силу своей простоты и прямоты). Самое главное — в том, что здесь нет загадок, нет проблем и на самом деле нет “тайны”. Все проблемы решены, и все ясно. Скала, вся материя, вся жизнь наполнены дхармакайей (законом и истиной)… все есть пустота и все есть сострадание. Я не знаю, встречался ли я когда-нибудь с таким ощущением красоты и духовной силы, слившихся в одном эстетическом озарении».
Позаимствовано из энциклопедии «Мистики XX века».

|